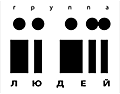На большой дороге, ведущей из Москвы на Запад, лежал этот город несчетное число раз горевший, разрушавшийся и вновь наспех отстраивающийся. По топким дорогам кто только ни шел к нему. Но и туда, в ту сторону, куда садится солнце, шли люди на Запад.
Город был красив той красотой, о которой не догадываемся. В нем не было великолепных зданий, роскошных особняков. Церкви были новы, убоги и построены по типовым проектам св. Синода. Но неширокая река тихо текла среди крутых холмов. Холмы, купы старых вязов, бесконечные сады и огороды, стеклянные крыши оранжерей, досчатые лодочные пристани, как все это было живописно – прекрасно!
Ничего этого не видел и не знал тринадцатилетний мальчик, игравший с другими мальчишками в пыли, на перекрестке двух улиц, у подножия огромного, почерневшего распятия, такого обычного в этих местах. Пыль была так мягка, так глубока и тепла, что почти не поднималась от нашей беготни. Кругом и вдоль тянулись кривоватые еврейские домики, с высоким крыльцом или уходящие в землю, те самые по которым всю жизнь в Париже тосковал Шагал. Их украшали огромные вывески, где большой черный сапог на голубом фоне, дамы и господа на вывесках, которым позавидовал бы Дерен, вперемежку со связками лука и каким-то старьем, над всем этим царил часовщик. У него вместо вывески «Х. Мейзеровский – точное время» напротив лавочки стояли часы и весь город проверял по ним время.
Вдруг мой товарищ, с которым мы носились по пыльной улице, скорее похожую на базарную площадь, сказал мне, показывая на окна небольшого дома, затемненного огромными липами. – «Ты знаешь, здесь живет мой дядя. Он «настоящий» художник и дает уроки. Всего 3 рубля в месяц. Хочешь, я тебя к нему приведу?»
Не думая о том, что ноги мои до колен почернели от пыли, рубашка без пояса, и что отец, конечно, откажет мне в трех рублях, я робко вошел в полутемную комнату, где не сразу различил картины, висящие густо-густо по стенам и толстенького человечка, лежавшего на диване и не думавшего пошевелиться при моем появлении.
Боже, какое разочарование! Из бесчисленных комплектов старой «Нивы», заполнявшей наш чердак, я представлял себе художника с большой шевелюрой, удлиненным лицом, остренькой бородкой и изящными кистями рук, небрежно брошенными на спинку дивана. Вы узнаете, конечно автопортрет Брюллова, уже мне знакомый по репродукциям. На диване лежал круглолицый, совершенно лысый человек с большими рыжими усами, мирно похрапывавший, сложив пухлые ручки на животе. Открыв на минуту глазки, он пробормотал «Приходи завтра с тремя рублями».
К моему удивлению отец безоговорчно расстался с тремя рублями. Я был так поражен легкостью его согласия, что забыл или не подумал о том, что нужны краски, кисти и бумага и холст. Это уже помогла мне обрести мама из своих скудных сбережений.
В городе был магазин художественных произведений, красок и художественных материалов Френкеля. На узкой, но главной улице, которой через год было присвоено имя Ленина, помещался тесный, заставленный пыльными холстами и несомненно никогда не раскрывавшимися папками с рисунками и акварелями местных художников. Владелец магазина Френкель, еще молодой человек с продолговатым розовым без бороды лицом, в котелке, сдвинутым на затылок и расстегнутой шубе с котиковым воротником шалью, показал мне на перегородчатый ящик с красками и сказал: «все краски по десять копеек». И стал считать на счетах, изредка поглядывая в мою сторону. Я перебирал краски полтора часа. Их запах, запах сандарака и макового масла, их этикетки, сам необычный антураж необычного магазина доставляли мне неизъяснимое наслаждение. Я не знаю, сколько бы я длил его, но человек в котелке заподозрил явно меня в чем-то нехорошем. Наконец, увидев, что я отобрал, сказал: «Маленький, а выбрал самые дорогие краски. Кадмий и креплак». Позже, пока еще существовал этот магазин, я заходил туда и Френкель говорил: «а ведь это я сразу открыл в Вас художника» и еще что-то в этом роде.
Вымытый и подстриженный, не босой, а в сандалиях, которые летом ребятишки в наших местах одевали только в церковь, я явился на урок. К моему удивлению было полно учеников, а мастер стоял у мольберта и писал пастелью свой автопортрет.
Яков Маркович Кругер обрел нового ученика, а за десять лет до того к нему явился еврейский парнишка, которому суждено было в Париже стать Хаимом Сутиным.
Сам Яков Маркович учился в Париже, не выдержав экзамен в Академию Художеств. Несмотря на свой живот, красное лицо, лысую голову, он был несомненно по-парижски артистичен. Когда он вскидывал свое пенсне на широкой черной тесьме, закладывая два пальца в карманчик пиджака и встряхивая головой, вам казалось, что вы видите его некогда густую рыжую шевелюру. Поразительно, но в Париже он чуждался всех течений, которые боролись с салонной живописью. Никакие новые идеи его не коснулись, только то, что общепризнанно, что хвалят газеты и покупают любители. Он совершенно не знал современного искусства и не интересовался им. Я позднее понял, почему это произошло.
В городе по тем временам было много художников. Но только один-два имели «право» называть себя художниками, т.е. закончили Академию, получили аттестат со званием «классного художника». Они жили в основном преподавание и некоторые гордо носили фуражку министерства народного просвещения. Особенно комичен был учитель рисования в женской гимназии Пунус, крохотного росточка с огромной лысой головой он важно носил форменную фуражку, будучи такой же городской достопримечательностью, как настоящая француженка мадмуазель Дюбарри (не больше, не меньше), тоже как и он преподававшая в женской гимназии. Но среди этих мастеров более или менее провинциального вида, как бы сошедших с полотен Ларионова, совершенно исключительно выделяется один образ.
В одно из воскресений Яков Маркович сказал нам, своим ученикам: – «по воскресеньям мы будем заниматься не у меня, а пойдем в настоящее ателье». И мы пошли. Я уж не раз задумывался над тем, что за странное здание на нашей тихой и тенистой улице. Обращенной глухой стеной без окон на улицу, оно увенчивалось стеклянной изломанной крышей. Заглянуть с улицы в него было нельзя. Мы прошли широкий двор, весь в цветочных клумбах и вышли в типичное парижское ателье, каких немало где-либо на Монмартре. Впечатление усиливалось огромными копиями с прославленных шедевров французских салонье. Которые я сразу узнал, потому что у нас дома был роскошный фолиант, изданный фирменном Дидо в Париже «Всемирная выставка в Париже», отдел живописи не то за 1889, не то за 1898 г., не помню точно. В ателье вплыла величественной походкой женщина поразительной красоты с бледно матовым лицом и прозрачно синими глазами. Золотистые распущенные волосы с сильно пробивающейся сединой, падали на плечи, черное бархатное до полу платье, массивная фигура и огромный черный рембрандтовский берет. Я ее отлично знал. Она появлялась часто на нашей улице, но никто ее не знал, чем она занимается. Она проходила отчужденной походкой из своего ателье в Костел и обратно. По воскресеньям. Оказалось, что пани Мрочковская и наш Яков Маркович познакомились в Париже и любили друг друга всю жизнь. Польская аристократка хоть и из обедневшего рода и еврей художник без права жительства вне черты оседлости не могли пожениться или хотя бы жить вместе. Он женился, имел сына, но она всю жизнь была старой девой и писала, писала копии старых картин, он тоже, по-видимому, в угоду ей не мудрствовал лукаво, не путался с разными безумными Апполинерами, Таможенниками Руссо и Сезаннами. Держался подальше от всяких мазил вроде фовойтов, а пытался достичь тайну успеха Королюсов Дюранов, Стевенсов, и т.п. Бенаров.
Однажды босоногий детина с всклоченной шевелюрой, в холщевой блузе, но с бантом, отвел меня в сторону и сказал: «Ты, кажется, воображаешь, что наш старик что-то может дать? Ничего. Он абсолютный ноль. Пойдем в воскресенье не к этой выжившей из ума Мрочковской, а на этюд! Я покажу тебе, как писать «сыплющееся небо». Принесем, покажем старику, он упадет от нашего этюда на пол и в корчах сдохнет». А то ты пишешь этот натюрморт с горшком. Я вижу, ты, кажется, даже собрался налепить блик на этот горшок. Вообще брось ты кисти, пиши пальцем, это темпераментнее.
Вообще, я уже украдкой, во время писания натюрморта с коричневым горшком разглядывал учеников и дивился их работам. Одни писали, как умели, но иные приносили этюды, где голубое небо было похоже на шахматную доску, где клетки были светло и темно голубыми, а такой знакомый костел кривился набок или извивался как штопор. Поля вокруг города, такие мирные, напоминали зеленые груди, и автор их самодовольно пояснил, что это, де как у Якулова. Только учитель, казалось, не замечал, что в его мастерской происходит какое-то брожение.
Он никогда ни к кому не подходил, ни у кого ничего не поправлял, он «присутствовал» и этого, по его мнению, было достаточно.
Этюд, который мы написали (с сыплющимся небом) не произвел не него желаемого впечатления, он не упал в корчах, а наоборот, сказал: – «мило, молодо». Мой новый друг был разочарован и сказал уныло: – «Значит слабо, будем пробовать дальше». И совсем не было нужды ходить на этюда за двадцать километров. Точно такие же места были рядом, но мы их не видели. Искусство начинается с глаза. На холмах были живописнейшие улицы, и хотя в городе не было гетто в европейском смысле, еврейская беднота стекалась с холмов в узкую ложбину, где протекал грязный, зловонный ручей, а кругом стояли облезлые домики, тесные дворы без зелени, запиравшиеся на ночь массивными воротами. Стены домов отражались в реке, мост соседствовал с рынком, все это было создано для того, чтобы писать. Но наши глаза некому было раскрыть. А между тем у «старика» была манера носить с собой маленький альбомчик, который он назвал «________», и крохотную коробочку акварели, и всюду, где он ни бывал, он делал наброски, слегка трогая их акварелью. Мы увидели это, когда он пошел с нами купаться. Мы скакали, брызгались, прыгали в воду с большого старого дерева, а он, раздевшись, и не думая купаться, что-то чертил в своем «________».
Я подошел и заглянул через плечо. Набросок поражал своей свежестью. Легкими штрихами он нанес красноватым карандашом абрис дерева, нас, домик и огород на противоположном берегу. Несколько пятен акварелью и все засверкало. Потом я встретил его в концерте за этим же занятием. Эту привычку я перенял у него и бесконечно благодарен ему. Что такое обучение живописи, рисованию? Все это зыбко, необязательно и меняется так же как меняется вода. Не уча рисовать и писать, он научил меня видеть кругом себя – качество необходимейшее особенно иллюстратору. Много позднее я узнал, что Делакруа не расставался со своим «________» и всю жизнь черпал сюжеты для своих картин из этих альбомчиков.
Но время шло. Среди учеников «мэтра» поползли слухи, что во вновь открытых клубах есть «изокружки», и в одном из них появился человек нового направления, не нашему «старику» чета. Новая эпоха зарождалась на наших глазах. Жизнь только, только налаживалась. Еще вчера было нечего есть, а уже сегодня город был оклеен афишами, возвещавшими всевозможные диспуты об искусстве, театре и поэзии. В городе, едва насчитывавшем 250 тысяч жителей, был десяток театров и театриков, в каждом кино перед сеансом обязательно выступал куплетист, а после него чтец декламатор, а то и цыганское трио.
На диспуты народ валил валом, а выставки пустовали. По холодным, нетопленным залам ходил мальчик в котиковой шапочке с ушками и недоуменно смотрел на развешанные по стенам холсты, где разноцветные палочки, треугольнички и линейки, наклеенные из цветной бумаги или тщательно закрашенные, представляли последнее слово живописи. Выставка супрематиста Малевича пустовала. Мальчик был единственным посетителем. Другие выставки тоже пустовали. Но огромная афиша «Художник из Москва Шабль-Табулевич прочтет лекцию в помещении Камерного театра. «Живопись завтра. Конец буржуазной живописи» Тезисы: вырождение индивидуализма. Мир искусства – маркизы и красноармейцы. Сезанн и Ван Гог провозвестники нового искусства». В объявлении сообщалось, что студентам и красноармейцам скидка. Чудеса. В то время как выставочные залы пустовали, диспуты об искусстве собирали невиданную аудиторию. Зимним сумеречным вечером я еду на конке в центр. Тусклый свет керосинового фонаря озаряет полузамерзшую фигуру кондуктора. Вечер только начинается, но пассажиры редки. В полузамерзшие окна конки изредка мелькают рыжеватые огоньки в окнах полузасыпанных снегом домов. Конка останавливается на Соборной площади и сразу попадаю в другой мир. У входа толпа. В зале яблоку негде упасть. Городская башня с еле мерцающим циферблатом наверно никогда не видела подобного зрелища.
Не помню, о чем говорил, низенький, коренастый с бородой Бакунина Шабль Табулевич. Я просто не в состоянии тогда был понять. На сцене стояло на мольберте огромное полотно с супрематической картиной, исполненной лектором. Лектор изливал музыку слов. Пикассо, Сезанн, Ван Гог, Гоген и Добужинский… звучные имена, уже не раз слышанные, зачаровывали как заклинания шамана. У стены стоял стенд с крохотными репродукциями, вырванными из книг. Аудитория – красноармейцы, молодежь в поношенных студенческих тужурках, гимназических шинелях воспринимала доклад бурно. Табачный дым висел густым облаком, кое-кто в задних рядах лузгал семечки. Вдруг на сцену вбежал небольшой человек с круглым животиком и круглой красной физиономией. С легкостью, неожиданной у такого толстяка, он взобрался на трибуну и, оттеснив довольно монотонного Табулевича, необычайно живо, сочно и ярко, с незаурядным полемическим талантом стер докладчика в порошок. Поднялся невообразимый шум. Кто-то вскакивал, кто-то потрясал кулаками, кто-то демонстративно покидал зал, чтобы тут же возвратиться. В этот момент в еще относительно свободном проходе, появилась сгорбленная, но высокая фигура. Бледное землистое лицо, впалые щеки, черные прямые блестящие волосы свисали космами из-под блинообразной кепки, чудом державшейся на затылке. Широко шагая в проходе по ногам, он заявил, что покидает зал в знак протеста. Через минуту вернулся как ни в чем ни бывало. Я понял, это как необходимый ритуал подобных диспутов.
В этом цыганского вида человека бросалось в глаза удивительное сочетание артистизма и утонченности с какой-то незащищенностью. Пиджак болтался на костлявом теле, волосы патлами падали на лоб, закрывали щеку. О нем стоило бы рассказать подробнее. Это тоже был один из моих будущих учителей Михаил Филиппович.
От шума в зале огромный холст, стоявший на мольберте, упал на голову толстяка и продырявленный как гигантское жабо остался на кругленьких плечах. В дырку просунулось смеющееся лицо аббата, и на этом вечер закончился.
С трепетом шел я в Профшкольный клуб, помещавшийся в заброшенном особняке. Пришел раньше всех. К моему изумлению легендарный педагог оказался тем самым ниспровергателем и «могучим бойцом» за новое искусство, который восхитил меня на пресловутом диспуте. Черная суконная гимнастерка, широкий кожаный пояс, сапоги, все это в моде того времени. Чекист. Следующий этап появился позднее. Толстовка. Иногда даже из-под нее, как из-под пиджака, виднелся галстук или воротничок. Но было в основном присуще научным работникам.
Это тоже кругленький, краснолицый, всегда улыбающийся добродушнейшей улыбкой аббата, пузатенький и коротконогий, держал себя со своими подданными как равный, как товарищ. Очень скоро я стал завсегдатаем его крохотной квартирки, где комнаты как коробочки выбеленные мелом, всегда гостеприимно принимали нас, изокружковцев. На стенах висели футуристические картины и портрет жены Арона Григорьевича Костелянского, бледноликой черноволосой красавицы с библейскими огромными глазами. В один из вечеров Арон Григорьевич Костелянский с торжественным видом сообщил: «Не уходите. Сегодня приехал из Москвы художник Зевин, блестяще окончивший два года «ВХУТЕМАС» и получивший высшую награду – заграничную поездку на 2 года. Он привез работы белорусов, проживающих в Москве, на 1-ую Всебелорусскую художественную выставку. Это была сенсация».
Стук двери, снимание галош, поцелуи с хозяином и в комнату вошел разматывая длиннющий шарф, очаровательный и изящный юноша со смуглым лицом, вьющимися черными волосами, глаза как маслины, слегка оливковый цвет лица, чуть синеватые губы, предельное изящество маленькой, но пропорциональной фигуры, доброжелательность и доброта в обращении. Вот это настоящий художник! Теперь вы поймете, почему мне потребовалось столь пространное вступление. Я ждал, я жаждал увидеть «настоящего» художника. Я верил, что такие существуют. «Дорочка, сооруди нам чайку» – сказал жене Арон Григорьевич Костелянский, в то время как Зевин, усевшись на диван и скользнув взглядом по футуристическим опусам хозяина, остановился на портрете. «Кто писал?» Шабль Табулевич тот, кто приезжал с лекцией о судьбах современной живописи. «Славная вещица, только немного зеленовато лицо. Вот прозелень у Греко живет, а здесь лежит на поверности. Я только что из Ленинграда. Эрмитаж потряс меня. Ведь все мы боготворим музеи Новой западной живописи. Щукинское особенно, но и у Морозова тоже есть, что посмотреть. Казалось нам, вхутемасовцам, ну что могут дать старики. Но когда я увидел на носу у папы Иннокентия Х блик чистой вермилтон, перламутрово переливающийся камзол Мецуетина. Вот то, золотистый фон рембрандтовского польского магната (он всегда считался предполагаемым портретом Яна Сербского), я понял, что мы ничего о живописи не знаем. Ну а когда я рассмотрел, как написан живот у Венеры с зеркалом, написан всей палитрой, где так и чувствуешь сквозь золотисто розовую кожу голубоватые жилки, это с ума надо сойти». И тут Зевин вскочил с дивана, отстранив чашку чая, и стал показывать, в каких позах изображены амуры на ренессанской раме «Венеры с зеркалом». Его изящная маленькая фигура оказалась еще необычайно пластичной и подвижной, когда он показывал эти позы, я заочно представил этих амуров, которых много позже сам имел счастье увидеть в Эрмитаже и, вспоминая рассказ Левы, дивился точности и остроте его восприятия. Не я один наслаждался этой встречей. Толстенький аббат Арон Григорьевич сиял, от восторга приоткрыл рот. Супруга его стояла, прислонившись к натопленной печке, дети спали, полчаса отдыха выпало наконец и на ее долю. Я сидел в тени абажура. Лев Яковлевич не обратил на меня никакого внимания и уехал. Но через четыре года, когда я стал студентом ВХУТЕМАСа, первым долгом я разыскал Льва Яковлевича и вскарабкался на 6-ой этаж по черной лестнице дома на 2-ой Тверской-Ямской. Здесь в небольшой комнатке по коридору, где жили еще пять-шесть семейств, предназначавшимся, по-видимому, для прислуги, жил художник со своей женой Фридой Рабкиной, тоже ученицей Фалька.
За эти четыре года Зевин необычайно вырос как художник. Что из себя представляли работы, которые если вы помните, Зевин привез на 1-ую Всебелорусскую выставку? Это были ученические работы. Это были классные работы учеников больших мастеров, без труда подчинявших себе благодаря своей яркой индивидуальной манере почти всех без исключения пришедших в мастерскую с уже готовым пиететом студентов. Мне лично отдел «москвичей» дал необычайно много. Практически я прошел курс, именно изучая ежедневно, пока была открыта выставка, все, что там было выставлено. И там Зевин выделялся как наиболее глубоко восприявший метод Фалька. Но мы тогда не знали, что сам Роберт Рафаилович находится под влиянием тогдашней манеры Дюпуа Дюнуане де Сегонзака. Манера эта требовала предельной перегрузки холста масляной краски. Поверхность картины представляла как бы штукатурку и т.к. свойство большинства масляных красок таково, что для максимального их использования необходимо считаться со свойствами одних быть прозрачными, а другими быть корпусными, то результат был один. Цвет терял свои качества, серел и превращался в фузу. Что отлично усвоили студенты мастерской Фалька, не дожидаясь пока множество наслоений образуют желаемую штукатурную поверхность, а сразу при помощи мастехина составляли на палитре соответствующую грязцу, наносили ее на холст при помощи мастихина и потом слегка моделировали кистью. Можно повторять этот прием несколько раз. Будет «________».
Новые работы, которые Зевин мне стал показывать, очистились от этой красочной штукатурки и было ясно видно, что художник обладает тонким чувством цвета, еще замутненного некоторой черноватостью, но уже превращавшегося в серовато серебристый тон. Здесь были натюрморты и портреты знакомых, но почти отсутствовали вещи композиционные. Небольшие холсты загромождали хоть светлую, но тесную комнатку, и бедной Фриде пришлось пожертвовать своей живописью для мужа.
Это была удивительная пара. Каждый вечер комнатка наполнялась друзьями и знакомыми, которые приводили все новых и новых друзей. В ту эпоху каждый обладатель жилплощади, особенно расположенной в центре, становился жертвой своих бездомных и бесквартирных друзей. Но атмосфера, царившая на вечерах у Зевиных, была особой. Здесь собирались еще безвестные, но полные горения и жажды свершений. Я мало того, что проводил у Зевина каждый вечер, но еще приводил с собой прорву своих товарищей. Чаще всего бывали Борис Берендгоф и Серафим Пруссов. Они привели кинорежиссера Легошина, ученика Эйзенштепйна, тот привел сценариста Клементия Минца. Все уроженцы Витебска бывали тут. Изумительный рассказчик К. Минц частенько занимал своими рассказами целый вечер. В. Алфеевский бывал ежедневно. Я между тем у него была рядом, на Брестской улице отличная комната, но почему-то к нему не шли. Может, он сам не хотел, кто его знает.
Тут надо прямо сказать. Этот круг бредил Парижем. Долго Зевин обивал пороги разных учреждений, от которых зависело реализовать ли присуждение ему заграничной командировки или нет. Прошло немало времени, пока до него не дошло, что это безнадежное дело. Но можно жить в Париже духовно, так и не увидев его воочию никогда. Искусство к счастью легче проникает через любые загородки. С литературой сложнее. Тут надо знать язык. Валериан Алфевский много читал по-французски и приносил нам журналы «_______» и «________». Много рассказывал о прочитанном. Тогда достаточно было увидеть плохонькую репродукцию, чтобы в вас пробудились целые миры откровений. Всходила звезда Боннара, Мориса Утрилло, Дюфи. Мы были равнодушны к творчеству Пикассо. Оно нас интересовало, казалось «занятным», словцо это из жаргона того времени объясняло все. «Занятно», т.к. сейчас говорят «ничего», «нормально» и т.п.
Однако дела мои становились все хуже и хуже и, наконец, я оказался не в состоянии оплачивать даже угол и как-то само собой получилось, что я стал довольно бесцеремонно ночевать у Левы. Меня клали на пол. Ребенка у Зевиных еще не было, Леве как будто так и надо, ничего не говорил, время шло, дни за днями ничего не меняли, и вот однажды, ворочаясь на полу, я услышал шепот Фриды – «сколько это будет продолжаться. Это же нельзя. Он ничего не хочет предпринять». Лева сонно отвечал: «Молчи, Фрида, спи, все образуется».
Между тем Зевины бедствовали. Лева принадлежал к той счастливой, на мой взгляд, категории людей, которые не умеют халтурить. Только творческая работа и никаких отклонений. Ну а творческой работой, сами понимаете, да еще молодому художнику, где это видано, чтобы прожить. Но как легко сносили мы в те годы бремя нужды. Никаких комплексов, никакого чувства своей неполноценности.
Как только появлялось несколько рублей не было и речи о том, чтобы их вложить в скудное хозяйство. Писать, писать, писать. Лева принадлежал у той, увы, самой многочисленной части живописцев, которые могли проявить себя только на натуре. Композиционным даром он обладал в весьма малой степени. Его вещи всегда хорошо расположены на холсте, хорошо скомпонованы, но композиция ему представлялась как сумма этюдов. Замысел не выходил на пределы модели.
Мы часто писали вместе. Портреты, этюды, пейзажи. Перед натурой Зевин не робел. Он умел найти и характерную позу и общую тональность. Он был очень музыкален, дружил со множеством консерваторцев. Часто они бывали у него, но увы! У него не было инструмента, и только Рузя Шершевский, впоследствии довольно известный дирижер, приносил иногда легонькую итальянскую гармонику – концертино и играл. Но у того, кто истинно музыкален, музыка проявится во всем, и я беру на себя смелость утверждать, что лучшие вещи Зевина музыкальны. Это проявлялось и в естественной пластичности поз и в сдержанно серебристой гамме, где нарушая некоторую сероватость колорита, бросался вдруг, как удар яркий кусок, кусок почти диссонирующий с общим тоном, но дающий ощущение свежести колорита. Когда нота не находилась, вещь получалась вялой.
Это отсутствие визионерских поползновений в искусстве Зевина тем более меня поражало, что я никогда не слышал ни слова о Фальке, его учителя во Вхутемасе, но почти ежедневное молитвенное преклонение перед Шагалом, у которого он недолго проучился в Витебске. У Шагала, этого визионера из визионеров, Зевин не почерпнул решительно ничего. Его совершенно не интересовала еврейская тема, чего нельзя сказать например, о Марке Аксельроде или Горшмане, творчество которых Зевин очень уважал.
Мы ездили писать в Подмосковье, в Ленинград. Однажды в Ленинграде мы писали речку Пряжку, Барки с дровами, грузчиков, сновавших по шатким сходням, согнувшись под тяжестью бревен. Недалеко дом, где жил Блок, напротив больница для душевнобольных, некогда имени «Святого Николая Мирликийского». Серый день, серой небо, зеленоватая вода, зеленоватая плесень на досчатой обшивке баржи. Лева закрашивает холст зеленой краской. «Что ты делаешь?» – удивился я, взглянув на его работу, – «день серый, а у тебя изумрудное небо». Очень спокойно покуривая папиросу,
Зевин сказал: «Я не пишу еще, я создаю на холсте живописное тесто. Сейчас я добавлю в него белил, краплачку, немножко черного, и получится то, что нужно».
Мы не скупились друг другу на советы и без всяких церемоний указывали, если что не получалось. «Гриша, ты пишешь акварелью так, как будто тебе жаль воды. Твоя акварель суха. Бери полную кисть воды и смачивай бумагу. Первый признак начинающегося акварелиста – это сухость краски. Сочнее».
Или что-то вроде: «Откуда ты взял, что этот дом валится набок. Он простоит еще двести лет». Тем временем грузчики на барже прекратили на время работу и уселись в кружок недалеко от нас. «Художники, не хотите ли коньячку? Две косточки?» – пригласил один из них, помахивая уже наполовину опорожненной бутылкой – денатурированного спирта, на этикетке которой были изображены две перекошенные кости и череп. Мы отговорились, что во время работы не пьем.
«А ведь это вам кричат», – сказал один из парней, сидевших у бутылки. В самом деле, мы уже давно слышали какие-то крики на противоположном берегу неширокой Пряжки. Мы прислушались. «Привет художникам на противоположном берегу от узников сумасшедшего дома!» Во всех зарешеченных окнах двух верхних этажей стояли одетые в белое или просто в нижнем белье фигуры наподобие распятых и кричали нам, – «Обратите на нас тоже внимание, я – Иванов десятого года рождения, холост, образование среднее, родился тогда-то, сегодня 1937-й год июнь месяц и т.п.» Стал накрапывать дождик, мы собрались и ушли с тяжелым сердцем. А вдогонку мы слышали: «Я абсолютно здоров, спасите, меня заточили сюда родственники, позарившиеся на мою комнату».
В это время на нас свалилась удача. Александр Григорьевич Тышлер порекомендовал нас композитору и режиссеру Александру Александровичу Голубенцеву, искавшему художников для спектакля, который должен был поставить в еще не существующем театре. Ему, конечно, хотелось, чтобы Александр Григорьевич сам оформил бы оперу, написанную тремя молодыми композиторами Киркором, Эдельштейном и Соковниным. Театр, еще не существовавший, должен был стать оперной студией при театре Пролеткульта, помещавшемся там, где теперь театр Сатиры.
Естественно, что для Тышлера, который после гастролей Белгосета приобрел широкую известность в театральных кругах, эта фирма не представляла никакого интереса, но для нас это было спасение, нечто вроде круга брошенного утопающим. Рекомендация Александра Тышлера была настолько весомой, что с нами непременно заключили договор, выдали аванс, и мы, оросив мероприятие бутылкой Шабли, приступили к работе. В то время все делалось с энтузиазмом, и пока собиралась труппа, оркестрировался клавир оперы, подыскивалось еще только помещение, а макет наш уже был готов. Мы демонстрировали его в подвале театра в полной темноте, организовав освещение таким образом, что вы получали полное представление о будущем спектакле.
Я еще сейчас вижу большие тени на стене и нас, колдующих у макета. Я думаю, что наша работа не в малой степени укрепила решимость Голубенцева довести дело до конца. Он в последние годы не любил вспоминать об этом периоде своей жизни. Надо прямо сказать, что были преодолены такие трудности, какие современный режиссер даже не в состоянии вообразить. Найти исполнителей пятиактной оперы, оркестр, музыкантов и дирижера, уверить знаменитую Збруеву работать с совершенно неопытными певцами еще никому не известного Белокурова, преподавать грим, найти мастерские для изготовления такого громоздкого, что впору Большому театру и, наконец, «выбить» деньги для оплаты всего этого, нужно было обладать талантом организатора, в высшей степени любить самозабвенно это дело, ну и страстно желать ниспровержения застарелых оперных штампов, о чем в наше время никто уже и не думает.
Пока кипела жизнь в подвальных помещениях театра Пролеткульта, мы могли немного передохнуть и посмотреть макет, приехал наш благодетель Александр Григорьевич Тышлер. Элегантный, как всегда с маникюром, пахнущий парижскими духами, спустился он в наш тесный подвал. Я забыл сказать, что действие нашей оперы происходило в Китае, на Советско-Китайской границе. О том, чтобы изучить китайскую деревню, посмотреть, как выглядят китайцы, словом проделать какую-либо подготовительную работу, не могло быть и речи. Все было сплошным вымыслом. Какая-то фантастическая хижина с остроконечной кровлей из ивовых прутьев, пропускавших свет, стояла на довольно высокой площадке, укрепленной на расписных столбиках, между которыми натягивалась система занавесок. Занавес представлял из себя сотни рубах и всякого разноцветного белья, висевшего на веревках, протянутых через всю сцену. В третьем акте не было ничего, кроме множества клеток для птиц разных размеров, висевших на разной высоте. Золоченные, красные, бирюзовые клетки отбрасывали причудливые полосатые тени друг на друга, сцена не была освещена, все это на совершенно темном фоне и артист, исполнявший партию мандарина, ходил по сцене, трогая клетки длинным бамбуковым шестом, и они качались. В оркестре в это время звенели колокольчики. По нашему мнению китайщины было довольно, но Александр Григорьевич все же был озадачен полным пренебрежением к китайскому колориту и сказал, указывая на досчатый забор, на который нанизаны были маски, служившие учебной мишенью: «А у китайцев-то все ногтями делают». При этом он показал ногти длиной примерно в полметра. Словом, он нас похвалил, и мы были счастливы вдвойне – не подвели. «А из вас друзья со временем может выйти театральная пара, если повезет, конечно, в театре без везения ничего не получится». Как это верно нам пришлось вскоре почувствовать очень больно.
Вскоре мы узнали, что наш макет хочет посмотреть Михоэлс. Ему о нас говорил все тот же Тышлер. В это время уважающий себя театр стремился найти художника не профессионала, а живописца или графика, даже скульптора, лишь бы у него не было готового штампа неизбежного у узкого профессионала. Мы вышли встретить Михоэлса к подъезду театра. Был ненастный вечер, уже зажглись огни, и к театру подкатил старинного вида драндулет с высоким квадратным кузовом, каких в Москве уже не видывали. Из кузова вылез, выпячивая нижнюю губу, наш знатный посетитель, бережно поддерживаемый под руку двумя еврейскими дамами неопределенного возраста. Увы, ему предстояло спуститься в весьма некомфортабельный подвал. Все также влекомый двумя ассистентками, он напомнил мне виденный в детстве приезд архиерея в женский монастырь. Усевшись в кресло, он молча смотрел, как мы колдовали со светом, пуская его на отдельные части макета сквозь специальную изобретенную нами трубку. Вид беспристрастный. Дамы смотрят только на Михоэлса, заглядывая ему в лицо, стараясь угадать впечатление. Не тут то было. Одно величие. Великий артист Михоэлс играл великого артиста. Через полчаса он отбыл, сказав несколько слов более или менее авторитетных. Впоследствии Александр Григорьевич сказал, снисходительно-одобрительных для Михоэлса – это уже очень много. С московским гостем не вышло, но зато нас пригласили в Белгосет. Театр, где начал свою блестящую театральную карьеру Тышлер. Режиссер Б.Н. Норд, впоследствии народный артист Украинской ССР, предложил нам на выбор две пьесы В. Вишневского «Германия» довольно примитивная агитка или очень вкусную пьесу Льва Славина «Иностранная коллегия», впоследствии шедшая с успехом в театре Вахтангова, но с названием другим «Интервенция». Это был еще один наш спасательный круг, ибо наш спектакль в Оперной студии Пролеткульта не был разрешен к постановке.
Когда после почти трех лет работы оперная студия Пролеткульта (так она уже именовалась в афише) наконец создала этот новаторский оперный спектакль ценой неимоверных усилий, нам сообщили, что перед премьерой его должен посмотреть Максим Максимович Литвинов, тогдашний нарком иностранных дел. Он приехал точно к началу спектакля, маленький, кругленький, улыбающийся, поблескивающий очками, очень подвижный и если бы не черный френч, а голубой фрак, очень похожий на министра _______. Внимательно посмотрел до конца, не раз хлопал, и после спектакля когда вся труппа еще неразгримированных артистов, Голубенцев и мы с Левой окружили его, он не торопясь, очень доброжелательно хвалил все, но почему-то особенно нашу работу: «Очень свежо, очень изобретательно, красиво». Но увы, тут он достал платок, протер очки и внятно и раздельно произнес: «К сожалению, я не могу разрешить этот талантливый спектакль к дальнейшему показу. Обстановка изменилась. Унас начинают налаживаться отношения с Китаем. Тема вашей оперы – конфликт на советско-китайской границе актуальная вчера, а сегодня уже не актуальна». Мы стояли, как громом пораженные. Это означало конец всему. Спектакли были распроданы на месяцы вперед. Уходя Литвинов говорил нашему режиссеру А.А. Голубенцеву: «искусство не должно быть злободневным. Оно должно отставать от событий дня, требуется расстояние между событием и его художественным воплощением». Сел в машину и уехал. Вот тут мы почувствовали слова Александра Григорьевича о том, что в театре должно везти!
Работа над театральным оформлением пьесы Льва Славина «Интервенция» увлекла нас едва ли не больше, чем постановка оперы. Действие происходит в Одессе, в которой в то время еще не был ни Зевин, ни я. Но я уже сделал рисунки к «Одесским рассказам» И. Бабеля для Госиздата и показывал их автору. Тема была известна, понятна и увлекательна. Как мы работали вместе? Это было время когда с легкой руки Кукрыниксов объединялись по двое, трое и больше художников, а впоследствии картины стали писать целые бригады. Конец индивидуализма и только. Объединялись самые случайные люди. Нас же с Зевиным объединяло полное взаимопонимание. Наши вкусы, наши привязанности в то время были совершенно идентичны. Разным был только темперамент. Совершенно одинаковая манера рознилась только в несколько бурном моем темпераменте и более лирическом у Зевина. Но уже намечался и разлад. Я все больше уходил в работу над книгой и даже сумел Льва Яковлевича увести в эту сторону. Он сделал очень интересные иллюстрации к рассказам Ляшко, изданным ГИХЛом в 1932 году. Но к рисунка как таковому Зевин был равнодушен. Почти никогда не рисовал, не делал набросков. Свои живописные вещи никогда предварительно не рисовал на холсте. Как я уже отмечал вещь начиналась с живописного теста и форма моделировалась постепенно и, что удивительно, рисунок не был сбит. Зевин был ищущим, как тогда говорили, художником, его качало то к злоупотреблению асфальтом, тогда входившим в моду, то наоборот, форма подчеркивалась ультрамарином. Он не любил художников со сложившимся раз навсегда приемом. Равнодушен был даже к Марксу. То, что иными ставилось в заслугу, – Маркс нашел формулу своего пейзажа, Зевина как раз отвращало. Когда на этюде случалось вносить в мотив какие-то элементы фантазии, Зевин сурово говорил: «Гриша, я знаю, что ты можешь нарисовать этот мотив интереснее, чем он есть на самом деле, но пойми, вся ценность работы с натуры, весь смысл ее в том, чтобы передать так, как оно есть. И ее состояние и погода и все, что в данный момент присуще именно этому пейзажу, и твое состояние, твое отношение даст то состояние души, о котором говорил Коро, и ты любишь его цитировать». Ему были близки такие художники как Боннар и Вюйар. Хотелось писать людей в их среде. Но была небольшая комната вместо мастерской, единственное украшение которой были крыши, видимые из двух узеньких окон. Все знакомые и все друзья должны были позировать, и я сам неоднократно ему позировал, а затем писал его. И в один прекрасный день, условившись встретиться завтра, чтобы продолжать писать друг друга, мы расстались навсегда.
Юрий Олеша, которого я уговаривал позировать, отговаривался тем , что сегодня не может, занят. Ну тогда завтра, настаивал я. А будет ли завтра, задумчиво сказал Олеша. Завтра не было.
19 ноября 1980 года,
Москва