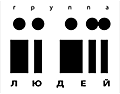…Стук двери, снимание галош, поцелуи с хозяином и в комнату вошел разматывая длиннющий шарф, очаровательный и изящный юноша со смуглым лицом, вьющимися черными волосами, глаза как маслины, слегка оливковый цвет лица, чуть синеватые губы, предельное изящество маленькой, но пропорциональной фигуры, доброжелательность и доброта в обращении. Вот это настоящий художник! Теперь вы поймете, почему мне потребовалось столь пространное вступление. Я ждал, я жаждал увидеть «настоящего» художника. Я верил, что такие существуют. «Дорочка, сооруди нам чайку» – сказал жене Арон Григорьевич Костелянский, в то время как Зевин, усевшись на диван и скользнув взглядом по футуристическим опусам хозяина, остановился на портрете. «Кто писал?» Шабль Табулевич тот, кто приезжал с лекцией о судьбах современной живописи. «Славная вещица, только немного зеленовато лицо. Вот прозелень у Греко живет, а здесь лежит на поверхности. Я только что из Ленинграда. Эрмитаж потряс меня. Ведь все мы боготворим музеи Новой западной живописи. Щукинское особенно, но и у Морозова тоже есть, что посмотреть. Казалось нам, вхутемасовцам, ну что могут дать старики. Но когда я увидел на носу у папы Иннокентия Х блик чистой вермилтон, перламутрово переливающийся камзол Мецуетина. Вот то, золотистый фон рембрандтовского польского магната (он всегда считался предполагаемым портретом Яна Сербского), я понял, что мы ничего о живописи не знаем. Ну а когда я рассмотрел, как написан живот у Венеры с зеркалом, написан всей палитрой, где так и чувствуешь сквозь золотисто розовую кожу голубоватые жилки, это с ума надо сойти». И тут Зевин вскочил с дивана, отстранив чашку чая, и стал показывать, в каких позах изображены амуры на ренессанской раме «Венеры с зеркалом». Его изящная маленькая фигура оказалась еще необычайно пластичной и подвижной, когда он показывал эти позы, я заочно представил этих амуров, которых много позже сам имел счастье увидеть в Эрмитаже и, вспоминая рассказ Левы, дивился точности и остроте его восприятия. Не я один наслаждался этой встречей. Толстенький аббат Арон Григорьевич сиял, от восторга приоткрыл рот. Супруга его стояла, прислонившись к натопленной печке, дети спали, полчаса отдыха выпало наконец и на ее долю. Я сидел в тени абажура. Лев Яковлевич не обратил на меня никакого внимания и уехал. Но через четыре года, когда я стал студентом ВХУТЕМАСа, первым долгом я разыскал Льва Яковлевича и вскарабкался на 6-ой этаж по черной лестнице дома на 2-ой Тверской-Ямской. Здесь в небольшой комнатке по коридору, где жили еще пять-шесть семейств,