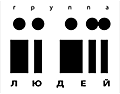Между тем Зевины бедствовали. Лева принадлежал к той счастливой, на мой взгляд, категории людей, которые не умеют халтурить. Только творческая работа и никаких отклонений. Ну а творческой работой, сами понимаете, да еще молодому художнику, где это видано, чтобы прожить. Но как легко сносили мы в те годы бремя нужды. Никаких комплексов, никакого чувства своей неполноценности.
Как только появлялось несколько рублей не было и речи о том, чтобы их вложить в скудное хозяйство. Писать, писать, писать. Лева принадлежал к той, увы, самой многочисленной части живописцев, которые могли проявить себя только на натуре. Композиционным даром он обладал в весьма малой степени. Его вещи всегда хорошо расположены на холсте, хорошо скомпонованы, но композиция ему представлялась как сумма этюдов. Замысел не выходил за пределы модели.
Мы часто писали вместе. Портреты, этюды, пейзажи. Перед натурой Зевин не робел. Он умел найти и характерную позу и общую тональность. Он был очень музыкален, дружил со множеством консерваторцев. Часто они бывали у него, но увы! У него не было инструмента, и только Рузя Шершевский, впоследствии довольно известный дирижер, приносил иногда легонькую итальянскую гармонику – концертино и играл. Но у того, кто истинно музыкален, музыка проявится во всем, и я беру на себя смелость утверждать, что лучшие вещи Зевина музыкальны. Это проявлялось и в естественной пластичности поз и в сдержанно серебристой гамме, где нарушая некоторую сероватость колорита, бросался вдруг, как удар яркий кусок, кусок почти диссонирующий с общим тоном, но дающий ощущение свежести колорита. Когда нота не находилась, вещь получалась вялой.