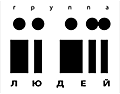В первые же дни моего пребывания в Москве Тоня рассказывала мне о своих друзьях – художниках, Льве Аронове и Абраме Пейсаховиче. Её восхищали талантливость, лиризм, новаторство их живописных работ и графики, их одухотворённость. В эпоху «Ура, да здравствует и одобрямс» – в социальной сфере и «прокрустова ложа» соцреализма – в творческой эти художники выбрали свой путь – тонкое лирическое мировосприятие природы, человеческих чувств, приоритет темы семьи. Вместе со своими единомышленниками: Львом Зевиным, Михаилом Добросердовым и Ароном Ржезниковым - они образовали, так называемую, Группу пяти. Это был тернистый путь: плыть против течения всегда трудней и опасней. Тоня был свидетельницей, с каким мужеством эти художники оставались верными своим убеждениям в годы гонений, особенно в 48-м году. По мнению Антонины, «огонь на себя» больше других принял Лев Ильич. Ни одно собрание в МОСХе не обходилось без злобных наскоков на «злобствующего эстета». Семья бедствовала: его лишали госзаказов, РАЗРЕШЕНО БЫЛО ТОЛЬКО РЕТУШИРОВАНИЕ ФОТОПОРТРЕТОВ вождей. Для творческого человека, находящегося на пике расцвета своего таланта и мастерства, – это убийственная ситуация… Великим благом для Льва Ильича, как рассказывала мне тётя, была моральная поддержка семьи, терпеливо переносящая невзгоды и бедность.
Жена художника Валентина Ивановна очень ценила творческую индивидуальность мужа. Разделяла с А. Пейсаховичем все мытарства и Ирина Николаевна Пейсахович. Однажды Антонина должна была передать что-то для Абрама Израилевича, прихватила и меня с собой. Художника дома не было, встретила нас худая, явно уставшая женщина, жена художника. За столом сидел мальчик, их сын. Общее впечатление, оставшееся у меня в памяти: здесь издавна и надолго поселились благородная бедность и затаённая печаль… Визит был кратковременным, а во мне надолго осталось чувство сострадания к семье художника. С раннего детства мне было знакомо положение изгоя и связанных с этим обстоятельством последствий… А так хотелось поверить, что мы живём в самом справедливом государстве мира, как утверждала советская пропаганда. В 48-м году, на девятнадцатом году жизни, я ещё старалась сохранить надежду, что «…счастье будет, что в тихой гавани все корабли».