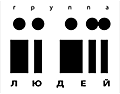И мы бежали. Бежали на сбор простыней и белья для раненых красноармейцев в лазарете, устроенном в нашей школе; бежали на вокзал помогать заградительным отрядам вылавливать мешочников; бежали на срочный сбор 1-го Ростовского железнодорожного отряда пионеров; спешили на заседание школьного совета, где вместе с педагогами решали, что и как нам преподавать; шли тесными рядами с барабанным боем на центральную площадь города на очередной митинг по сбору средств в помощь фронту; шли в поход в деревни, чтобы там петь перед крестьянами новые песни, читать стихи и уговаривать мужиков сдавать продналог.
После того памятного зимнего вечера, когда я впервые услышал «Левый марш» и узнал имя Маяковского, отношение к его поэзии других людей в моем сознании превратилось в мерило оценки самих этих людей. Получалась своего рода лакмусовая бумажка: если Маяковского не принимал кто-нибудь, спорил с ним, возмущался, то для меня и моих друзей это был уже тем самым чужой или пропащий человек, кем бы он ни был, какое бы место в жизни ни занимал.
Такое отношение к Маяковскому держалось во мне много лет, до времени почти всеобщего признания его поэзии. Но в 20-х годах в Москве, встречаясь со множеством своих сверстников, я сразу находил общий язык только с теми, кто увлеченно читал его стихи или просто восторженно упоминал его имя.
Позже мне самому удалось несколько раз слушать его, однажды выступить на дискуссии, где говорил речь и он, много раз видеть его на улицах, в театре, в редакции и, наконец, разговаривать с ним на его выставке в Доме писателей, совсем незадолго перед трагической его смертью. Обо всем этом я расскажу дальше, но сейчас, когда я вспоминаю о самом начале 20-х годов, в момент окончания средней школы-девятилетки в Ростове и переезда в 1923 году – в Москву, где я начал вполне самостоятельную жизнь молодого человека того времени, поэзия Маяковского была, пожалуй, главной направляющей силой в моей внутренней жизни.
Футуристы
— Володька-а-а!—кричал мой приятель Витька, вбегая во двор нашего отряда, где мы проводили сборы и играли в футбол. — Володька, бежим на бульвар, там футуристы идут! Я не знал, что такое футуристы, но по возбужденному лицу Витьки понял, что это что-то из ряда вон выходящее. Их было трое—двое мужчин и женщина. Она была одета в длинное темное узкое платье, обтягивающее ее худое тело, на голове большая глубокая без полей светлая шляпа, из-под которой еле видны были черные провалы глаз. Необыкновенными оказались и мужчины. У одного был нарисован зеленой краской треугольник на щеке и красная полоска поперек лба. Но особое впечатление производил третий, очень красивый молодой человек лет восемнадцати или самое большее — двадцати. Одет он был в длинную черную бархатную куртку с фиолетовым, свободно повязанным галстуком-бантом. Длинные и гладкие волосы спадали до плеч и сползали на лоб густой челкой. Голову опоясывал тонкий золотой ремешок или обруч.