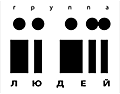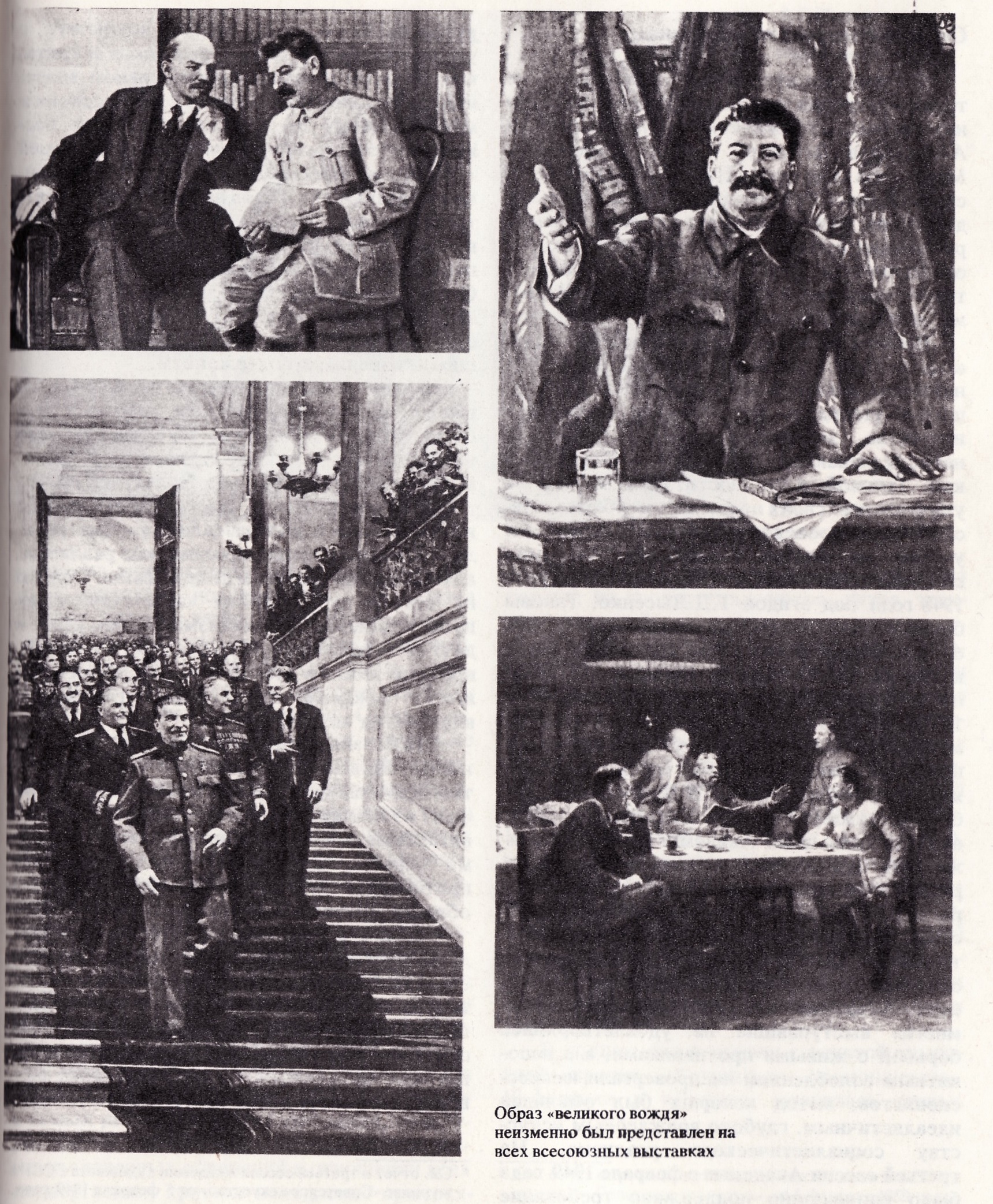 В самом конце августа мы с женой уехали на несколько дней отдохнуть в деревню под Канев. Однако когда я 6 сентября возвратился в Киев, сразу почувствовал какое-то иное, изменившееся ко мне отношение. Дело в том, что пока я был в деревне, умер А.А.Жданов, о чем я узнал, когда возвратился в Киев. Внутренне я понял, что эта смерть как-то скажется на дискуссии, но не мог даже и представить себе развернувшихся затем событий. Меня встревожило уже то, что Раевский, когда я пришел к нему накануне отъезда за стенограммой, егозя и неловко оправдываясь, ее мне не отдал.
В самом конце августа мы с женой уехали на несколько дней отдохнуть в деревню под Канев. Однако когда я 6 сентября возвратился в Киев, сразу почувствовал какое-то иное, изменившееся ко мне отношение. Дело в том, что пока я был в деревне, умер А.А.Жданов, о чем я узнал, когда возвратился в Киев. Внутренне я понял, что эта смерть как-то скажется на дискуссии, но не мог даже и представить себе развернувшихся затем событий. Меня встревожило уже то, что Раевский, когда я пришел к нему накануне отъезда за стенограммой, егозя и неловко оправдываясь, ее мне не отдал.
Приехав в Москву, сразу же увидел, что обстановка в МОСХе совершенно изменилась. Оказывается, уже 11 сентября в газете отдела пропаганды и агитации ЦК партии «Культура и жизнь» была опубликована большая редакционная статья на два подвала. В ней говорилось о том, что в статье Сажина есть ряд положений непродуманных и даже ошибочных, что о формализме говорится в ней вскользь, что на собрании в МОСХе высказывались положения теоретически несостоятельные и даже вредные, что «есть еще художники, находящиеся под влиянием картин Сезанна и Матисса. Все еще имеют место проявления формализма в творчестве иекоторых художников (А.Дейнека, С.Герасимов, М.Сарьян, П.Корин, А.Осмеркин, Р.Фальк и др.)».
Сейчас, в 1980 году, когда я пишу эти строки, надо напомнить о том, что этих хороших, передовых для того времени советских художников, за которых мы всегда дрались, вульгаризаторы и защитники натурализма долго третировали за проявления формализма и только в 60-х годах, когда стала уже совершенно очевидной реакционность подобных оценок, такие критики, как П.Сысоев, В.Кеменов, А.Лебедев, круто повернули свой курс и начали говорить и писать о некоторых из упомянутых как о великих советских художниках.
Но возвращаюсь к дискуссии. Было ясно, что после смерти Жданова она была признана ошибочной и прекратилась. Однако для меня дискуссия не была кончена. Продолжая активно выступать в печати и на собраниях, главным образом о плохом положении у нас критики, я не знал, что под меня подводится мина, которая в конце ноября месяца и взорвалась. В этот день, собственно, уже ночью, в 12 часов раздался телефонный звонок, и я услышал перепуганный голос Ксении Степановны Кравченко, с которой дружил и вместе в течение многих лет работал в МОСХе, где она была ученым секретарем.