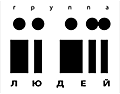Жизнь в Москве была взбудоражена, приподнята и в то же время деловита. В домах формировались группы и отряды противовоздушной обороны, проводились инструктажи по уходу за ранеными, по гашению «зажигалок», подготавливались бомбоубежища.
В МОСХе создавались бригады художников разных назначений, но прежде всего агитационно-пропагандистские — для выпуска боевых листков, лубков, плакатов. Искусствоведы начали проводить беседы об искусстве в лазаретах. Но за организационной активностью чувствовалась все возрастающая тревога за судьбу страны ввиду невероятных, немыслимых поражений на фронте и угнетающе быстрого продвижения врага. Озабоченность возрастала с каждым днем, с каждым известием о сдаче немцам все новых и новых городов и областей. Воспитанные на том, что воевать мы будем только на чужой территории, мы с ужасом обнаруживали страшную неподготовленность страны к неожиданному, но все же ведь предчувствуемому многими нападению.
Еще не оставили мысль о проведении выставки «Наша Родина» в МОСХе, еще продолжали по инерции осуществлять разные довоенные планы и мероприятия, хотя прошел уже ровно месяц с начала войны. В этот день утром я позвонил Саше Морозову и сказал:
— Сашка, знаешь что? Я уверен, что Гитлер — мистик и что сегодня, ровно через месяц после начала нападения, он еще раньше задумал — будет бомбить Москву. Вот увидишь — сегодня будет не учебная тревога, а настоящая бомбежка. Около тебя в Петровском парке стоит много зениток, и у вас, наверное, будет слишком горячо. Приезжай ко мне, у нас здесь должно быть спокойнее.
Он сказал, что приедет. Оказалось, что я как в воду глядел. Кажется, около семи часов началось. Но, увы, наш район, около площади Маяковского, оказался под сильным ударом, правда, больше всего было сброшено не бомб, а зажигалок. Когда началась канонада зениток, мы вылезли на крышу и бегали по ней, то указывая дежурным во дворе, куда падали зажигалки, то со страхом смотрели на начавшиеся пожары на западной окраине Москвы. Мы так кричали и так были возбуждены, что по нас кто-то начал стрелять и мы бросились на чердак, а потом в квартиру. С улицы кричали, чтобы мы закрыли окна, но я успел закрыть только одно окно и поскорее увел больную жену и Сашу в ванную, как началась целая вакханалия взрывов, вспышек и ударов. Когда все стихло и мы вошли в комнату, одного, как раз закрытого, окна как не бывало, а осколки старого, особо толстого стекла изрешетили всю комнату.
С этого мгновения мы почувствовали настоящий страх, и уже через несколько дней я позвонил Саше, как ближайшему другу, с просьбой помочь увезти жену, художницу Валю Набокову, в деревню под Абрамцево, где сестры ее Лида и Люда снимали дачу. В этот день метро было закрыто, что еще более встревожило москвичей, и мы с Морозовым несли долгое время Валю на руках, а я поочередно с ней терял сознание, потом спохватывался и снова, изнемогая, нес. но наконец выбился окончательно из сил, выбежал на середину Садовой улицы и поднял руки навстречу машинам. Я кричал, показывая на лежащую на тротуаре бледную как смерть жену, и требовал, чтобы довезли нас до Северного вокзала. Один шофер смилостивился и показал на кузов грузовика. Мы кое-как перевалили через борт Валю и плюхнулись в кузов, весь пропитанный чем-то белым, вроде гипса. На переполненном до отказа вокзале мы все же достали носилки и внесли Валю в вагон, а потом в Абрамцеве нашли телегу и почти бездыханной притащили ее на дачу.